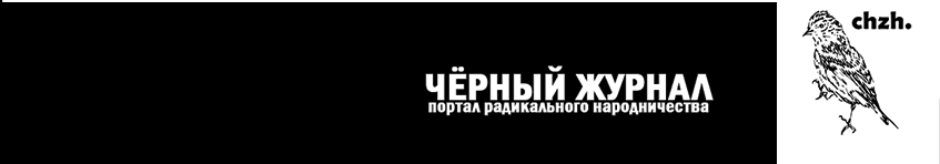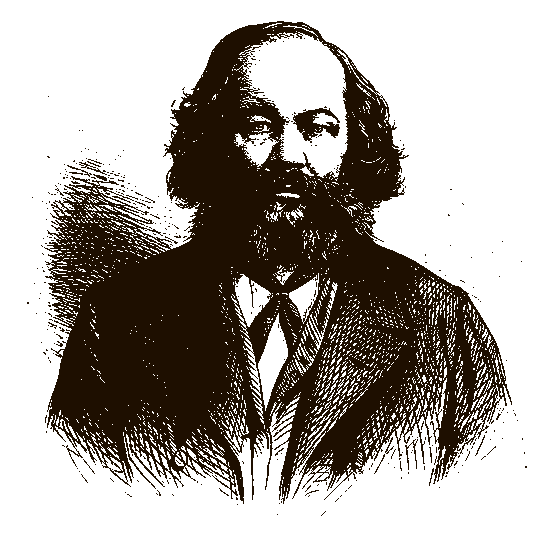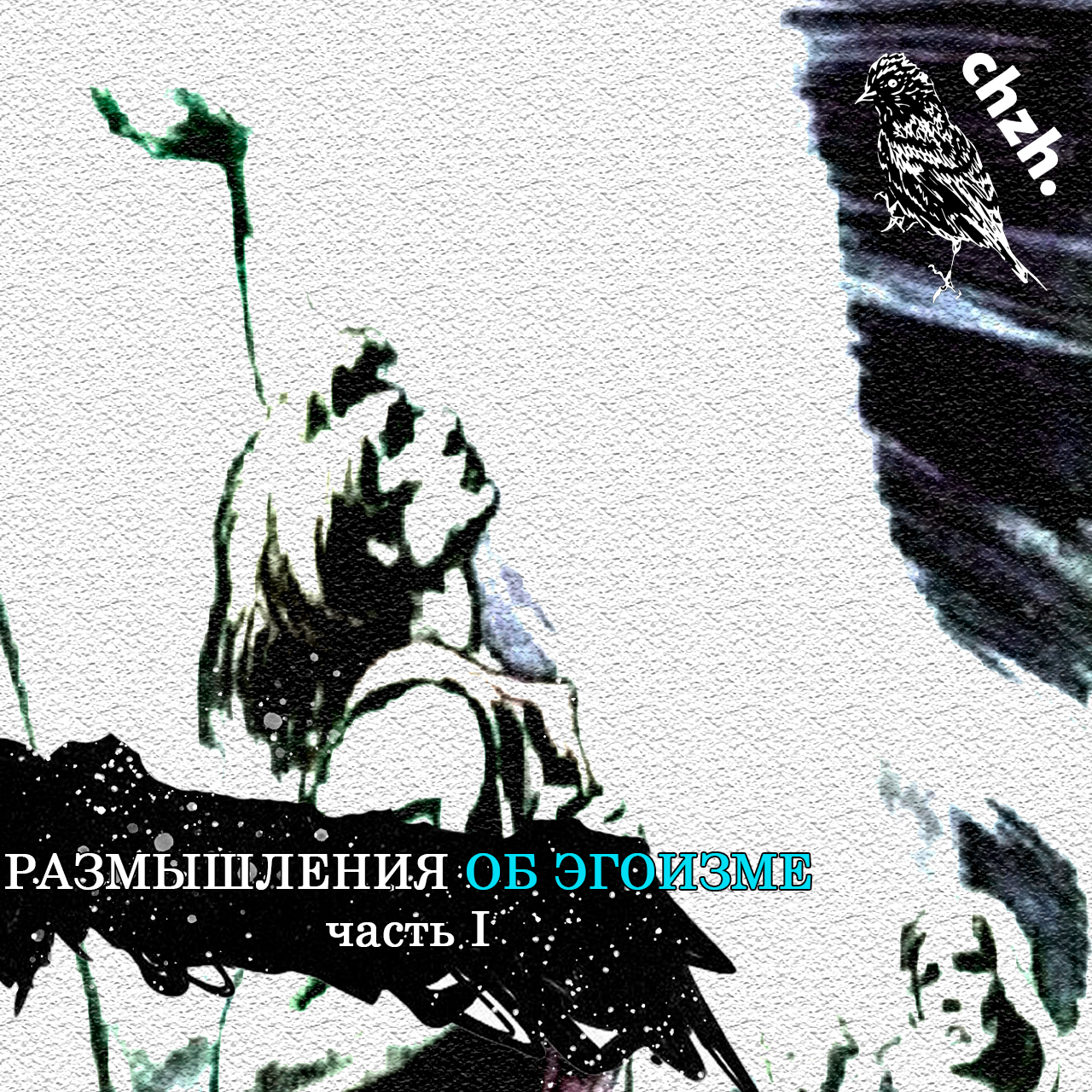
Качественный авторский материал от Дениса Хромый, анархо-индивидуалиста и переводчика статьи Альберта Либертада «Свобода» из сборника «Человек после общества» журнала Эгалите. Глубокие философские рассуждения о нравственности и эгоизме в традициях эпохи модерна. Рассмотрение постулатов индивидиуализма через призму классических авторов анархической философии и художественные образы; конструктивная критика ошибочного восприятия философии нравственного эгоизма. Публикуем первую часть. Приятного прочтения.
Идеалы, ценности, предпочтения, идеи, знания — всё это служит, в соответствии с принципами индивидуалистической парадигмы, усилению мощи и возвышению конкретного «Я», составляя тем самым конкретное содержание его микрокосма. Такому пониманию, запечатлённое Штирнером, придерживались и последующие теоретики индивидуалистического учения. Как отмечал французский анархо-индивидуалист Э. Арман: «Этические нормы, чувственный опыт, этикет, эмоции, знания, таланты, мнения, страсти, смыслы, интеллект и прочее — сколь многое помогает нам открыться жизни. Сколь многочисленна прислуга нашего «Я», способная помочь ему раскрыться и обрести полноту. Учась управлять всеми этими слугами, сознательный «ниспровергатель авторитетов» не позволяет ни одному из них захватить управление над собой. И если он уступает, то причина этого — в недостаточной тренировке воли» [1].
Суть, помимо вышеупомянутого, заключается ещё в том, что те или иные принципы обладают как формой, так и конкретным содержанием. Форма принципа или добродетели — это то, как они функционируют. Содержание же — это то, что именно конкретно приводится в действие в определённой области применения той или иной добродетели. Так, если взять за пример добродетель взаимопомощи, то общая форма этой добродетели довольно проста в понимании: это взаимная помощь двух личностей друг другу в удовлетворении их совпадающих интересов. Однако конкретное содержание (которое в контексте моих размышлений не является тождественным семантическому пониманию этого явления, воплощённого в конкретном языковом знаке) будет уже определяться этими двумя личностями. Они, к примеру, вполне могут объединиться друг с другом ради реализации весьма «пакостного дела»: два недобросовестных хакера решили отключить свет в районе для того, чтобы помочь подельникам ограбить магазин или чужие дома.
Исходя из этого примера, становится банально очевидно то, что принцип как таковой (в его форме) не самоценен, а лишь его содержание, определяемое конкретной личностью. Это также обусловлено и тем, что принцип или добродетель, помимо формы и содержания, располагает в проблематике своей сущности и степенью собственной «экспансивности» — широтой применения добродетели в различных контекстах деятельности человека. В соответствии с понимаем этой черты всякого принципа, становится понятно, что чем шире кругозор человека, чем сознательнее он — тем шире область применения добродетели человеком и тем добродетельнее он сам. Так, например, если вышеупомянутые хакеры применят добродетель не только в контексте своих отношений друг с другом, но и в более широком контексте общественного, включив в него и других людей, живущих на улице, где они выключили свет, то они начнут учитывать и их интересы, перенаправив теперь свои силы в большую степень солидарности, что, закономерно повлечёт за собою негацию их изначальных намерений (желания ограбить дома). Если мотив хакеров заключается в том, что они желают ограбить дома из–за того, что их на это преступление подталкивает нужда (голод), то они, осознав, что их ограбление повлечёт за собой страдания (голод) других, могут поставить себя на место страждущих и посочувствовать им, потенциально таким же, как и они, осознавая более ясно жестокость и бесчеловечность своего поступка. Так, поставив себя на место других, они станут сознательнее, а их порыв к взаимопомощи, который изначально подталкивал этих двух хакеров к кооперации с другими подельниками, теперь включит в контекст взаимной помощи и других — таких же страждущих или потенциально страдающих. Подобное может побудить хакеров к тому, чтобы не отключать свет, что тоже можно расценивать как помощь жителям домов. Естественно, это не будет полноценно реализованной взаимопомощью, но здесь я пишу именно в контексте порывов отдельных личностей, которые руководствуются теми или иными принципами. Даже если дальше развивать этот пример, то можно предположить, что хакеры не только не станут отключать свет, но и попытаются остановить своих подельников, за что им, вероятно, будут благодарны жители этого района.
Следовательно, исходя из вышеприведённых размышлений, даже столь почитаемая товарищами анархистами солидарность и взаимопомощь предстают по-настоящему ценными лишь тогда, когда они обладают достаточной степенью экспансивности и когда их применению предшествует детерминация содержания благородным духом конкретной личности или группы личностей. Также это указывает на то, что любое ограничение добродетели в её экспансивности потенциально обедняет саму добродетель и ведёт во время праксиса общего спекулятивного принципа добродетели к противоречию, где реализация добродетели в одном контексте обуславливает возникновение противоположных содержанию самой добродетели явлений в других контекстах (когда вследствие реализации взаимопомощи одних людей (хакеров) её лишаются, а, следовательно и страдают от её отсутствия, порождаемого самим праксисом взаимопомощи лишь в одном контексте, другие люди, проживающие в домах). Как писал Жан-Мари Гюйо: «Жизнь есть утверждение. Словно огонь, она существует лишь благодаря собственному расширению» [2]. То же самое касается и добродетели: чем экспансивнее (шире её применение в жизни человека) добродетель, тем больше добра она порождает, и тем больше жизни она созидает.
Но сейчас мне бы хотелось перейти от взаимопомощи к другому принципу — эгоизму. Эгоизм, в сущности, является принципом, провозглашающим «приверженность Я» («egoism»: «ego» + «ism», где суффикс «ism» обозначает «приверженность»). В данном случае это именно приверженность своему «Я».
Итак, то, что мы выяснили, что содержание определённых добродетелей и принципов определяется отдельными личностями, которые могут как наполнять форму этих добродетелей или принципов разнообразным содержанием, так и наделять их разной степенью экспансивностью во время их непосредственного праксиса, то и критика «эгоизма» как принципа является на самом деле откровенно несостоятельной. Критика эта несостоятельна, поскольку, когда большинство людей критикует «эгоизм», то они на самом деле критикуют не «эгоизм» как таковой, как форму, а конкретное проявление содержания этого эгоизма, которое определяется самой личностью. В самой приверженности самому себе нет ничего плохого, но приверженность же осуществляется по отношению к конкретному «Я», которое, как микрокосм, может состоять из разных убеждений, предпочтений, желаний, идеалов и ценностей. Большинство людей презирают не «эгоистов», а «плохих людей», которые последовательны в своей «порочности». Но конкретное воплощение отдельной личности не способно умалить значение принципа «эгоизма», поскольку приверженность самому себе уже априори утверждает добродетели искренности и аутентичности, но эти добродетели, как слуги, находятся в распоряжении «плохого господина» — какого-нибудь циничного буржуа, жестоко эксплуатирующего других ради удовлетворения чрезмерных потребностей своего разнузданного «Я». Но если отдельное «Я» «плохо», то это не означает, что принцип «эгоизма» нужно тут же предавать забвению. Наоборот, как и всякие прочие ценности или добродетели, принцип «эгоизма» должен быть поставлен на службу благородному, а не разнузданному «Я».
Многочисленные критики принципа «эгоизма» даже не осознают, какой потенциал могущества в себе содержит этот принцип! Человек, глубоко приверженный себе, являет собой высшую гарантию того или иного нравственного закона. Безусловно, «эгоизм в плохих руках» являет собой гарант «чрезмерной порочности», но в руках благородного и возвышенного духа — гарант «сверхчеловека» — неимоверно благородного, волевого, могущественного, независимого, несгибаемого и храброго добродетеля-созидателя, который являет собой волевое превосхождение всякого порока, всякой развращающей и порабощающей внешней силы, поскольку такой эгоистичный человек остаётся верным самому себе при любых условиях — даже при наиболее суровых.
Существуют ли примеры таких «эгоистичных благородных людей»? Несомненно, одним из наиболее ярких примеров такого человека является Михаил Бакунин. Этот неистовый бунтарь и пылкий поборник свободы — каков был его эгоизм! Он оставался приверженным своим идеалам и ценностями — самому себе, лелеянным им собственно принципам несмотря на все невзгоды. Этот человек оставался «эгоистом» — приверженным самому себе несмотря на попытку различных внешних сил отчудить его от себя и подчинить себе: лишение имущества отцом, заключение в 4 тюрьмы, потеря зубов от цинги, ссылка… Всё это он выдержал, поскольку оставался верен самому себе и своим принципам. Даже если бы все на свете отреклись от Бакунина и его идеалов — он всё равно остался бы неистовым бунтовщиком, преследующим свои идеалы свободы и равенства. Это так, потому что «эгоист» определяет свою волю в соответствии со своими убеждениями и сентиментами, а не является отчуждённой марионеткой внешних сил — гетерономий, которые помыкают и направляют волю отчуждённого субъекта куда им заблагорассудится. В этом и есть смысл автономии. И только эту автономию обеспечивает принцип эгоизма. Эгоизм позволяет личности стать величественным дубом, или, даже лучше, горой, которую никакой ветер, торнадо или другая бедственная стихия не пошатнёт. Стадность же подразумевает, что человек лишается убеждённости в своих идеалах тогда, когда её лишаются и другие. Скажите, было бы прекрасно, если бы от Бакунина отвернулись все последователи, впав в этатизм, и Бакунин в этот же миг повального ренегатства веры провалился бы в эту пропасть вместе с другими? Конечно же нет! Именно таким и должен представать выдающийся человек: несгибаемым и благородным эгоистом, поставившим себе на службу и следующим высшему и «дальнему» (идеалам), а не слабому и эфемерному (преходящей воле разочаровавшихся сторонников — ближних). Низменность и слабость («человечность») ближних — вот действительно одни из подлинных врагов благородного эгоиста. Не раз мне приходилось наблюдать (как в жизни, так и в кино) ситуацию, где какой-то честный и искренний человек желает, как и герой нижеследующего примера, сделать всё по совести. Но чревата ему такая добросовестность насилием или другой неприятностью (увольнением, например). И тут же его жена, опасаясь того, что они лишаться заработка или комфорта, говорит ему: «Ты эгоист! Чего тебе всюду нужно лезть со своими принципами?!«. Человек всего лишь был искренне и твёрдо привержен своим ценностям, которые вполне побуждали его, например, вступиться за другого или добиться справедливости в отношении другого, чья судьба не безразлична добродетелю. Вполне себ е»альтруистично»… Но почему-то такое спорадичное выражение синтеза «низменного» эгоизма и «высоконравственного» стремления, высказанное кем-либо в порыве манифестации своей слабовольности, так и остаётся иррациональным и до конца неосознанным явлением, потенциально обновляющим восприятие «эгоизма». Иногда, при определённых ситуациях, обычным людям удаётся случайно обнаружить такой «благородный эгоизм», но почему-то подобные озарения остаются мимолётными яркими звёздами, которые тут же гаснут во тьме общепринятых представлений (которые не во всём ложны — просто узки) левых, правых или же «аполитичных» людей.
Возьмём другой пример из «Врага народа» Генрика Ибсена. Центральным персонажем пьесы является Доктор Стокманн. Он инженер и врач, который искреннее дорожит принципами истины и свободы. Однажды в трубах вод, за счёт которых и обогащается город, как туристический объект (точнее, обогащается местная буржуазия), где он живёт, он обнаруживает, что из–за неправильно построенной системы труб воды загрязняются и отравляют тем самым туристов. Случилось это потому что буржуазия решила «сэкономить» на системе труб вопреки опасениям Стокманна. Стокманн придумывает новую систему труб и намеревается заменить старую, чтобы посетители тур-города больше не отравлялись. Но для буржуазии это невыгодно: она решает, что прибыль важнее, чем здоровье приезжающих. Стокманн решает «обратится к народу» за поддержкой в борьбе с местной буржуазией, но народ («сплочённое большинство») ловко обманывается её софистикой. Местная буржуазия отказалась платить за новую систему труб (которая была изначально испорчена из–за неё) и решила переложить затраты на построение новой системы на плечи самого «народа». Но переложила она это бремя, которая должна была нести сама, не от своего имени, а от имени самого Доктора Стокманна. И что же последовало? Естественно: врач был подвергнут толпой остракизму, оклеветан и унижен. Но что же Стокманн? Отрёкся ли он от своих убеждений и истины, как только его же сожители перестали его поддерживать? Нет, ни разу. Он был господином своей волей — «владельцем», по Штирнеру, «эгоистом», который оставался верным самому себе — своей приверженности принципам истины, честности и свободы. Пьеса прекрасно показывает, что единственной гарантией истины и добродетели является высоконравственная личность, которая полностью привержена своим высшим ценностями, а не отрекается от них «по первому волнению невежественной толпы» (и да, Стокманн не презирает толпу — он лишь желает каждому из этой толпы перестать быть невежественным, стадным и обрести критическое мышление для того, чтобы перестать позволять буржуазии манипулировать ими ради её собственных корыстных и антигуманных интересов). Если бы Стокманн не был бы «эгоистом» — не был бы привержен своей честности и совести — то имелся бы у города хоть малейший шанс на спасение? Ведь Стокманн, после того, как его прогнали, не оставляет город: он решает создать школы, где будут воспитываться такие же «новые и благородные люди», благодаря эгоистичной высоконравственности которых произойдёт духовная и социальная революция города, где наконец-то «народ станет народом», а не «тупой чернью», которой пользуется правящий класс ради собственной наживы.
Есть ли такие «благородные эгоисты» и среди так называемых «анархо-индивидуалистов»? Да, несомненно. Один из них немецкий анархист Густав Ландауэр. Я приведу лишь одну его цитату в подтверждение моих слов:
«Я не знаю морального суждения. Я знаю только вопрос: с кем я охотно общаюсь? Кто мне симпатичен? И это определяется наклонностями, устремлениями и мыслями человека! Для свободного человека нет никакого неприкосновенного «ты должен!» И ещё кое-что я хочу сказать. Я уже часто говорил это, и эта мысль для меня прекрасна и важна. Мир вечен, а я живу только один раз. Я вижу вокруг меня мир, в котором мне многое, слишком многое отвратительно и ненавистно. Одним из моих основных инстинктов, который важен, чтобы я мог жить в соответствии со своей природой, является переделывание мира по принципам, которые я воспринимаю как разумные. Т.к. я не признаю над собою никакого хозяина и никакой заповеди — не должен ли я приложить все усилия к тому, чтобы действовать для этой моей цели? Человек умирает от скарлатины, от дифтерии, от алкоголизма, от холеры, от старческой слабости. Есть ли более прекрасная смерть, чем смерть ради идеала? Я живу только раз, только один раз у меня есть время, чтобы воздействовать на мир своей волей, и я скоро умру. Почему бы не приложить все силы для освобождения человечества?» [3].
Пример такого благородного эгоиста, решившего посвятить себя делу освобождения человечества, как пишет Ландауэр, мы находим в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль«, а именно в легенде о Данко. Данко является одним из ярчайших представителей благородного эгоизма, который не мог терпеть измельчания, слабости, страха и сервильности людей, с которыми он жил. Его благородство — сила, отвага, рвение, бесстрашие, сочувствие, свободолюбие, здравомыслие (именно он указал своим товарищам, что лес конечен, как и всё в этом мире, а значит из него можно выйти, что тем самым являлось сильным аргументом в пользу того, что освобождение возможно) и иные прекрасные добродетели побудили его, без предварительной вербовки или навязывания чужой отчужденной от него гетерономной волей, импульс к освобождению как себя, так и людей, чьи страдания в тёмном и ядовитом болотном лесу он не мог терпеть. Именно его приверженность собственному своеобразию, состоящему из вышеописанных добродетелей и ценностей и составляющему его «Я», и породила в нём великую и отважную личность, которая вдохновила людей, угасающих под давлением удушающей тьмы леса, на преодоление «человеческого» в себе — бессилия, слабости, трусливости и уныния. Именно горящее благородством сердце Данко вдохновило людей на преодоление того, что им казалось непреодолимым. Воля Данко не была извне детерминирована чем-то: она исходила из чистого энтузиазма, собственной любви к людям и свободе. Это подтверждается в моменте, когда люди, следовавшие за ним, разочаровались в Данко под тяжестью густоты леса и упадка собственных сил, начав изгонять злобу за собственное разочарование на самого героя. Они стали оскорблять его «ничтожным и вредным» человеком, из–за которых они измотались. Но воля Данко была непоколебима, поскольку была автономна — привержена себе, своей жалости к людям и собственному стремлению к совместному освобождению, даже если сами люди, которых побуждают к освобождению, разочаровались в этой возможности. Под наплывом осуждений и клеветы толпы воля Данко стояла твёрдо и несокрушимо, поскольку его благородство было столь могущественным, что никакие слабости и низости не могли её подавить. Что сделал Данко в момент того, когда его хотели убить, ознаменовав тем самым полное отречение его товарищей от него? Он не впал в низость, не прогнулся под остракизм и безволие толпы, а ещё сильнее воспылал своим сердцем рвением к свободе, ибо только яркий свет благородства и непоколебимой отважной воли способен вдохновить других на преодоление самих себя — свет его добродетели затмил тьму как в самих людях, так и во всём лесу! И источник этого света — сам Данко и его своеобразие, которое является результатом его собственной воли, усилий и убеждённости. Даже в минуту повального отречения толпы от него, его воля доказала, что является причиной самой себя, потому что привержена самой себе даже тогда, когда в неё не верят те, кому она помогает — поскольку она эгоистична. Данко является блестящим примером того, как эгоизм являет собой высшую гарантию добродетели: как бы толпа не пыталась унизить, умалить и отречься от него, он оставался приверженным самому себе — своим целям, желаниям, своему сочувствию, своему свободолюбию, своей отваге, и именно поэтому он стал тем, кто привёл людей к освобождению, а не хилая и слабая толпа, которая коллективно друг за другом начала заражаться слабоволием и потакать друг другу в этом слабоволии ради общего успокоения. Данко пожертвовал собой ради людей — да, это так, ибо как только люди стали свободными, он умер, а его сердце превратилось в голубые огоньки. Некоторым людям, называющим себя «анархо-индивидуалистами», вроде Рензо Новаторе, Сидни Паркера или Энзо Матруччи, чужда почти всякая социальность и идеи про «самопожертвование» — они считают это антииндивидуалистичным и неприемлемым. Однако более глубокий индивидуалистический взгляд позволяет понять, что если личность выбрала этот путь сама, ей это не было навязано кем-то свыше или коллективом, если в этом самопожертвовании она преследовала искренне свои собственные стремления, желания, убеждения (убеждение, например, что другие достойны свободы, как и ты сам, ибо тот же Данко освобождается вместе с другими), что такое стремление лишь укрепляет и усиливает личность (а стремление Данко делало его только сильнее, что и показывает Горький, когда его сердце начинает пылать всё ярче и ярче; кроме того, это не противоречит тому же Штирнеру, который поощрял всякое стремление личности, если это усиливает её «мощь» — силу, могущество), делает сильнее, могущественнее, благороднее, нестадной, незаурядной, ставит её выше порабощающей коллективности (в этом случае коллективной ничтожности и безволию, из–за которых толпа норовила убить Данко) и угнетающих материальных условий (густой и тёмный лес с ядовитыми болотами, где жил Данко и его товарищи) — если всё это утверждает примат личности, развивает её своеобразие, является её искренним проявлением самобытной воли, аутентичности и если её воля не отчуждена чем-то свыше, какой-то гетерономией, как и было у Данко, а принадлежна самой себе — самой личности (что и продемонстрировал Данко в моменте, когда несмотря на весь остракизм, отречение и бессилие людей, которых он освобождал, он всё равно продолжил своё дело, поставив свою живую и освобождающую волю выше угасшей и низменной воли толпы), то подобное дело — самопожертвование является индивидуалистичным, даже пусть оно кажется «альтруистичным». Как писал американский анархо-эгоист Джон Беверли Робинсон: «Эгоист не позволяет себе быть одураченным какими-либо идеалами: он отрекается от них или же использует в своих интересах. Если ему или ей нравится быть альтруистом, то они жертвуют собой ради других. Однако делают они это только потому, что именно они этого хотят, не требуя взамен ни благодарности, ни славы» [4] и немецкий философ Рудольф Штайнер: «Лишь человек, действующий без принуждения, вправе считать свои поступки действительно своими. Они [такие люди] свободны, когда следуют только самим себе; они несвободны, когда подчиняются» [5].
Именно так и поступил Данко, как эгоист, но свободный и благородный: он следовал без принуждения только самому себе — своим интересам, или же, выражаясь более романтически, «велению и свету своего сердца» (которое играет центральную роль в легенде, по сути) — он хотел быть благородным и освободить людей даже тогда, когда они этого не желали (из–за сочувствия к ним и понимания, что они погибнут без него), не требуя взамен ни благодарности, ни славы: «Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе» [6]. «Вознаграждением» Данко было не материальное богатство, а лишь радость от исполнения стремлений своей воли и ликование от освобождения людей — достижение того, что желал его благородный дух, который не был сломлен благодаря собственной твёрдой приверженности самому себе в непростых и давящих условиях. Хотя Данко и умер, но люди, вдохновлённые его подвигом, буду учится на его примере, а потому станут свободнее. Каждый из них, став на благородный путь, всё равно пройдёт его по-разному, поскольку вдохновение не предполагает плагиат и эпигонство — механистическую копирку, а свободное и творческое развитие того, чем личность была вдохновлена. Четырёх же примеров таких благородных эгоистов, я думаю, достаточно.
Ссылки:
1. Э. Арман. «Ощущать себя живым». URL: https://ru.theanarchistlibrary.org/library/to-feel-alive
2. Цитата взята из эссе Пьера Шардо «Экспансивный индивидуализм». URL: https://teletype.in/@editorial_egalite/faZc-S8HLlg
3. Густав Ландауэр. «Кое-что о морали». URL: http://samlib.ru/l/landauer_g/morrr.shtml
4. Джон Беверли Робинсон. «Эгоизм». URL: https://teletype.in/@editorial_egalite/egoizm
5. Рудольф Штайнер. «Философия свободы». В переводе, проработке и самостоятельном изложении книги профессором энтомологии Е.С. Смирновым (1949–1952). С. 125.
6. Максим Горький. «Старуха Изергиль». Часть сборника «На дне». Избранное: Эксмо; Москва; 2003.
Автор: Денис Хромый, продолжение следует.